Открытие кафе, ресторанов и гостиниц возможно лишь на третьем этапе снятия «коронавирусных» ограничений. Окончательное решение в каждом конкретном регионе будут принимать губернаторы. Тем не менее, до сих пор остро стоит вопрос: какие компании могут рассчитывать на государственную поддержку, которая особенно пригодится в период перезапуска бизнеса. Об актуальных вызовах и решениях – в интервью шеф-редактора Business FM Петербург Максима Морозова с директором Высшей школы экономики в Петербурге Сергеем Кадочниковым.
Максим Морозов: Сергей Михайлович, много и широко обсуждается вопрос о пресловутом правительственном списке отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса. Конечно, бизнесмены недовольны и хотели бы, чтобы в этот список попало большее количество отраслей, чтобы большее количество компаний получили реальную поддержку. Как вы считаете, какие отрасли экономики, кроме уже включенных в правительственный список, можно назвать наиболее пострадавшими от пандемии?
Сергей Кадочников: Мне кажется, что он вообще очень адекватный. Вопрос же чаще всего заключается в том, что, когда, например, вопрос переходит ниже, на уровень региональный, то там появляются лоббирующие группы, которые довольно сильны. Но в федерации они тоже очень сильны. Просто это более прозрачная история, или история про то, что на уровне страны нет двух-трех налогоплательщиков ключевых, а часто в регионах эта ситуация такая, что есть крупняк, который является крупным, с одной стороны, работодателем, а с другой стороны – плательщиком налогов. И никто из региональных властей не может отказать таким ребятам. Чаще всего эти искажения происходят как раз на региональном уровне.
Максим Морозов: То есть получается, что критерии включения в этот список – они подгоняются уже под каждые конкретные компании в регионах?
Сергей Кадочников: Естественно. Мне кажется, что более-менее общая рекомендация на эту тему – это рекомендация про долю малого бизнеса в структуре отраслевой. Потому что все исследования, которые сейчас по западным экономикам есть – один из главных результатов их состоит в том, что больше всего пострадали малые и средние компании.
Максим Морозов: Сфера обслуживания.
Сергей Кадочников: Вы сейчас говорите уже об отраслевой проекции этого дела, но даже если брать просто все отрасли, например, в отраслях, которые не относятся к сфере услуг напрямую, большая доля малых компаний являются субконтракторами так называемыми, то есть поставщиками каких-то узлов, деталей, еще чего-то. Они очень сильно связаны с крупным бизнесом, и в этом смысле, когда мы говорим, что, например, не помогать крупняку – это в ряде отраслей означает автоматически и не помогать небольшим компаниям. Потому что они очень сильно связаны по технологической цепочке. Поэтому более общая рекомендация здесь может быть еще дополнительным критерием – доля малого и среднего бизнеса. Безусловно, вот в тех отраслях, которые есть в правительственном списке сейчас, они уже отражают очень большой сектор малого бизнеса. Потому что он связан с отраслями. Есть уже оценки по второму кварталу, они такие, очень, по-моему, правдоподобные. Не очень давно просто я смотрел очень хорошие оценки, которые даны были ВЭБом, есть у них Центр макроэкономических исследований, так вот, они недавно опубликовали их. Самое большое падение по выпускам квартальным во втором квартале ожидается в сферах спорт и культура.
Максим Морозов: Ожидаемо.
Сергей Кадочников: И это примерно 80%. Дальше идет транспорт – это 70%. Дальше идет торговля, но это уже с сильно большим отрывом – 40%, потому что понятно, часть торговли работает. Ну вот, например, обрабатывающая промышленность, которая формально чаще всего не напрямую связана с конечным потребителем, то есть там нет ограничений на приход каких-то клиентов, которых нельзя пускать куда-то. Это оценка в 17%, это очень высокие цифры, естественно, очень высокие цифры.
Максим Морозов: То есть список будет расширен отраслей в итоге, которые пострадали?
Сергей Кадочников: Я так не думаю. Мне кажется, что, скорее всего, будет логика все-таки типов компаний. Отраслевой список – он определен, потому что, если мы начинаем делать шаг следующий, если у нас вся обработка – это минус 20 по кварталу, мы еще не знаем, что будет дальше – то можно всю экономику отправить в список пострадавших. Это так и есть.
Максим Морозов: Борис Титов, бизнес-омбудсмен, говорит, что, может быть, стоит ориентироваться на сокращение оборота.
Сергей Кадочников: Мне кажется, что вопрос, скорее, именно в размерности сейчас и в различии между типами поддержки. Например, когда мы говорим о крупных компаниях, поддерживать их очень важно, но просто вопрос методов поддержки – это прямое субсидирование, например, фонда заработной платы, или нет, или эта мера поддержки не должна использоваться применительно к крупным компаниям? В этом водораздел.
Максим Морозов: Некоторые бизнесмены против раздачи денег.
Сергей Кадочников: Это понятно, потому что это, во-первых, вопрос о конкуренции – есть компании, которые значительно более эффективны и накопили, условно, жирок. Но при прочих равных есть простое деление – по размерам компании. У крупных компаний, как правило, больше запасов финансовых ресурсов, а у малого бизнеса этого почти нет. И вот в этом смысле водораздел не по падению, а все-таки по размерности. Так вот, по размерности, у малых это один тип поддержки, а у крупных – просто другой тип поддержки. Вот это, мне кажется, гораздо более продуктивная история.
Максим Морозов: Сергей Михайлович, если говорить уже не о наших пожеланиях, а о состоявшихся мерах поддержки – и федеральных, и региональных – как вы оцениваете их эффективность и достаточность?
Сергей Кадочников: Об эффективности можно судить только в контексте оценок, которые дают представители компании. Первые фактические меры, которые были более крупные, объявленные в начале апреля, 8 апреля было выступление президента, по-моему, на совещании с губернаторами – большинство оценили как достаточно поздно объявленные. Потому что большинство мер в отношении и крупных компаний, и небольших были завязаны на сохранение занятости. И если у тебя 90% занятости есть, то ты являешься тем, кто может претендовать на эти меры поддержки. Если нет, то не можешь. Так вот, я просто посмотрел опросы, которые проводили, например, Высшая школа экономики проводила опросы по физическим лицам, то есть это не опросы компаний, а опросы людей. И есть довольно тоже известный опрос апрельский у Kelly Services, у хедхантеровской компании. Так вот, по опросу Вышки там было две волны, одна волна была в середине марта, а другая была ровно перед 8 апреля, 5-6-го, например. И Анкор проводил опрос подобный, как и в Kelly. Так вот, мне что бросилось в глаза: у Вышки на середину марта 60% опрошенных говорили, что их никак не коснулось изменение в экономике, а в начале апреля с таким высказыванием согласились только 22%.
Максим Морозов: То есть меньше.
Сергей Кадочников: Сильно меньше, в три раза меньше. Так вот, те, кого коснулось, 39% – это те, у кого произошло сокращение заработной платы. А 22% – потеряли источник дохода. Это вообще сумасшедшие цифры. Когда я посмотрел на данные, которые дали Kelly, оказалось, что ровно такая же структура по тем, кто перешел на сокращенный рабочий день – около 35-37%. И около 20-22% потеряли работу. То есть это простое сопоставление показывает, что это очень похожие на правду цифры, какую бы мы выборку ни брали. Это просто означает, что к середине апреля – к тому же 8-му апреля, когда президент объявил фактически первый пакет экономической поддержки – люди уже все потеряли. Но вот даже эти усеченные меры поздновато пришли, и задержка оказалась примерно на три недели, потому что ровно вот эти три недели – разница между этими опросами. У нас есть болезни, связанные с информацией, с тем, как представляется информация, как она доходит до власти, насколько ее считают репрезентативной, ту или иную. И когда мы видим, например, совещание президента с губернаторами, бросается в глаза довольно бравурный тон отчетов. То есть выбираются показатели, по которым губернаторы достаточно выгодно могли бы смотреться. И в целом отсутствие альтернативных источников сбора информации, отсутствие постоянного контакта с экспертным сообществом, которое могло бы сватком выступать таким...
Максим Морозов: А как же знаменитые опросы ФСО, те опросы, которые делает аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова?
Сергей Кадочников: Я сейчас пытаюсь для себя объяснить, чем вызвана история про такие поздние решения. Можно найти какие-то контраргументы, сказать, что – а вот то-то было опубликовано тогда. Но почему-то оно не стало предметом рассмотрения таким, которое привело к принятию решения.
Максим Морозов: Цена, цена в таком случае задержки на три недели – чем это может обернуться?
Сергей Кадочников: Если мы говорим о потере работы у 20% респондентов. Вот есть оценки Владимира Гимпельсона, это самый известный специалист по рынку труда – его оценки очень простые. Если мы берем, например, сектор услуг весь, который относится к пострадавшим, и он брал, по-моему, по малым и средним компаниям занятость – и берем простую оценку в 20% сокращения занятости в этих секторах. Это на самом деле довольно консервативная оценка. И она на самом деле очень схожа с тем, что мы имеем по результатам опросов – вот эти 22%, потерявших работу, согласно исследованиям Анкор и Kelly Services. Занятых в этих секторах – порядка 25 млн. То есть мы имеем сокращение в районе 5 млн работников. Если у нас сейчас, на начало этого кризиса, на начало марта, например, у нас оценки по безработным были 3,9, то 5 млн плюс безработных – пока мы еще не утверждаем, что это так, это просто оценки, исходя из опросов, с одной стороны, а с другой стороны, исходя, вообще-то, из довольно потолочной цифры. Допустим, не на 50%, а, допустим, на какую-то более-менее разумную цифру, например, на 20. Просто эти оценки подкрепляются опросами уже. Так вот, 5 млн – это больше 10% в сумме безработных. И вот мы можем оценивать, сколько придется потратить денег на то, чтобы поддержать, например, через выплаты безработным, которые не сразу обращаются в наши службы по разным основаниям.
Максим Морозов: Кстати, к вопросу о «вертолетных деньгах» – и Минфин, и Центробанк консолидировано считают, что так называемые «вертолетные деньги» мы не можем и не должны раздавать. Силуанов говорит о том, что рубль не является резервной валютой, а Набиуллина из Центробанка опасается разгона инфляции. Хотя мы знаем примеры – самый яркий, наверное, это США, где 1200 долларов правительство выдает единовременную выплату гражданам. Два таких кардинально разных подхода. Вы какой точки зрения придерживаетесь, как бы нам стоило поступить?
Сергей Кадочников: Выбор между этими двумя вещами, то есть делать массовую раздачу стандартной какой-то суммы всем или не делать – это история про два факта. Два важных соображения влияют на ответ на этот вопрос. Даже три соображения, три фактора. Вот первый сюжет – это сюжет рисков инфляции, разгона инфляции в условиях раздачи. И Эльвира Сахипзадовна Набиуллина как раз считает, что здесь риски довольно серьезные. Оценка со стороны большинства экономистов сходится на том, что рисков инфляции сейчас как раз очень мало. Это связано, во-первых, с тем, что мы сильно сократили спрос разово, потому что мы потеряли зарплаты. И в этом смысле добавка денег в экономику – это добавка того, что уже потеряли. Это не новые деньги, которые были в сравнении с теми, которые были, скажем, докризисные. Это, фактически, возвращение на объем денег, которые находятся в руках населения. Они будут по-разному распределены, безусловно, но это возвращение на прежний уровень.
Максим Морозов: Тогда об инфляции речь не идет.
Сергей Кадочников: В этом смысле нет. Есть второе соображение, очень важное, которое касается инфляционных рисков. Оно связано с тем, что инфляция возникает тогда, когда у нас загружены полностью экономические мощности. То есть когда экономика не может производить больше. И тогда дополнительные деньги не приведут к росту выпуска, а приведут к тому, что просто на прежний объем выпуска нужно будет устанавливать более высокие цены. Чтобы те же товары просто продать тем, кому это надо. Чтобы не вставали в очередь за дефицитным товаром, как это было, например, в советское время при регулируемых ценах. Так вот, когда мы говорим о падении производства в разных отраслях на разное количество процентов, мы говорим о том, что мы не находимся на пределе производственных мощностей. Мы сократили производственные мощности, мы сократили выпуски. Значит, новый спрос или новые деньги – это возвращение объемов продаж, которых нет сейчас, но которые могли бы быть. Вы сможете нарастить производство, в этом смысле мое понимание ситуации с инфляцией базируется на этих двух соображениях – что мы возвращаем количество денег, которое ушло у людей, и мы даем возможность больше производить, потому что такая возможность есть. Потому что мы сократили свой производственный потенциал до этого, а мощности у нас есть.
Максим Морозов: То есть это перераспределение денежной массы, либо все равно придется включать печатный станок?
Сергей Кадочников: Когда вы говорите о перераспределении, вы говорите – между слоями населения, между группами населения?
Максим Морозов: Да.
Сергей Кадочников: Это не тема печатного станка, это тема того, что, например, на какие-то группы товаров могут расти цены, а на какие-то нет. Потому что, если у нас деньги были, например, в феврале у богатых и у среднего класса, а у бедных не было денег, значит у нас был спрос в большей степени на товары, которые потребляли богатые и средний класс. А если мы раздаем деньги равномерно, у нас в среднем или в относительных величинах выигрывают бедные. Для них это – существенный рост относительного дохода. В два раза, например. А для богатых или тех, кто получал средние доходы, это прирост на 0%, либо на 1,2%. То есть первые не изменят свою структуру потребления, они не станут покупать теперь, из-за 10 тысяч дополнительных, автомобили, если они не могли это купить и раньше. Но на продукты питания спрос будет расти, безусловно.
Максим Морозов: И это – опосредованная поддержка бизнеса.
Сергей Кадочников: Конечно. Естественно. А достаточно ли у нас денег, чтобы заниматься такими интересными упражнениями, как раздача денег всем? Это же история про вот этот базовый доход, история, которая последние пять лет будоражит мысли очень многих.
Максим Морозов: Есть примеры – скандинавские страны, Финляндия.
Сергей Кадочников: Да-да-да. Но это история про, конечно, достаточно богатые страны, которые могут себе позволить перераспределять бюджет в пользу определенных слоев населения. Здесь ответ на этот вопрос очень сложный, о достаточности денег в российском бюджете, и этот ответ на вопрос очень сильно завязан на прогнозы по тому, как долго будет кризис. Естественно, что те, кто отвечает на этот вопрос отрицательно, что нет, нельзя раздавать – например, как Силуанов – он отвечает за кубышку всей страны, он в первую очередь отвечает за то, чтобы денег хватило не на один год, и даже не на два года.
Максим Морозов: Потому что горизонт планирования сужен, Силуанов не знает, что будет к концу года.
Сергей Кадочников: Конечно. А между тем он рассчитывает, что через год, через два ему нужно будет отвечать за это. Он рассчитывает оставаться министром финансов не несколько месяцев – это тоже нормальное ощущение и нормальное желание. Другая история ответа на этот вопрос – это не только про то, сколько у тебя сейчас денег, это история про то, можем ли мы деньги занять на рынке и увеличить сейчас наши расходы не из, например, Фонда национального благосостояния, который 10% валового внутреннего продукта составляет, и для многих кажется это хорошей цифрой.
Максим Морозов: Справедливый вопрос, почему не распечатывают ФНБ, очень часто звучит.
Сергей Кадочников: Об этом можно сейчас отдельно поговорить. И мы можем подумать о другом механизме, который используют Соединенные Штаты Америки. И вот пассаж Силуанова на тему, что у нас не резервная валюта – это пассаж про это. Американцы могут легко печатать деньги, и спрос на их доллары не будет уменьшаться, хотя их предложение растет. А вот вопрос о рубле, не будет ли он падать в цене – это вопрос об инфляции, о многом очень другом. Значит, опять же, здесь разные оценки есть экономистов, но общие оценки состоят в том, что – или оценки экономистов, которые я оцениваю, как убедительные – что порядок цифр в районе до 6-7 трлн рублей в этом году дополнительные заимствования фактически у Центрального банка, не на рынке, не у банковской системы, чтобы не забрать возможности кредитования со стороны банков частного бизнеса, потому что они все деньги отдадут государству иначе – это, конечно, заимствования у Центрального банка, которые оцениваются как не очень рискованные с точки зрения инфляции сейчас. И вот в этом смысле, даже без обращения к ФНБ, без раскупоривания для конкретно этих целей, потому что Фонд национального благосостояния должен еще выполнять задачу по дофинансированию федерального бюджета в условиях, когда…
Максим Морозов: Цены на нефть, тут еще одна важная тема.
Сергей Кадочников: Цена на нефть просто другая, да. Так вот, там опять же есть разные оценки, но оценка по 1,5% от ФНБ, которые уйдут только на возмещение потерь в нефтегазовых доходах, которые приходят в бюджетную систему – это оценка, понятно, что у нас вместо 9-10% ФНБ уже 1,5% уйдет только на это. И мы не знаем, что будет на будущий год с ценой на нефть. Если она будет держаться в районе 30 долларов за баррель, как прогнозы по этому году считаются, до конца года сейчас – тогда надо каждый год 1,5%, и она не будет накапливаться, у нас ФНБ не будет расти, естественно.
Максим Морозов: И то, это оптимистичный прогноз, 30-40. Некоторые рассматривают вариант 10 долларов.
Сергей Кадочников: Конечно. То есть если ФНБ только пойдет на возмещение потерь в нефтегазовых вот этих налогах, то это только три года, четыре, на которые проекция есть у министра финансов, у наших финансистов.
Максим Морозов: К вопросу о сокращениях – нам традиционно говорят те департаменты, органы в регионах, которые отвечают за трудоустройство населения, о том, что всегда вакансий свободных на рынке чуть больше, чем безработных. То есть всех можно обеспечить той либо иной работой. Но сейчас безработных становится все больше – как трансформируется рынок труда, как он справится?
Сергей Кадочников: Сейчас краткосрочная ситуация – это ситуация про то, что, конечно, количество запросов на вакансии растет. По тем оценкам, которые я видел, это пока не драматические вещи, это из серии – восемь запросов растет до девяти, например. Это не изменение реальное. Второе, что происходит – это, конечно, замещение тех вакансий или тех рабочих мест, которые раньше занимались в основном трудовыми мигрантами из других стран, теперь – гражданами России. Это абсолютно история, которая ощущается сейчас. И эта история очень тяжелая, потому что она может спровоцировать существенный рост преступности. Потому что люди, которые приехали в Россию, живут скученно – они не могут возвратиться домой, сейчас просто закрыто авиа-, железнодорожное, любое сообщение с их странами.
Максим Морозов: Неслучайно стройкам разрешили работать, чтобы эти люди были заняты.
Сергей Кадочников: Да, в том числе. Но просто вот этот сюжет – надо понимать, что он может быть очень значимым. Рост преступности – мы не говорим о голодных бунтах, признаки которых уже начали появляться. То, что мы видим на Кавказе сейчас, во Владикавказе, например – это же первые просто ласточки. Вот в этом смысле это история, которая не просто про рынок труда, а история про очень серьезные политические риски, которые есть в стране, и риски роста пандемии. Потому что это еще и коллективные акции людей. Это не акции людей, которые стоят друг от друга в 1,5 метрах на социальной дистанции.
Максим Морозов: Сергей Михайлович, получается, деньгами заливать пока не планируют, свободных вакансий на всех не хватит – как в такой кризисной ситуации управлять рынком труда? Как его стимулировать?
Сергей Кадочников: У нас, видимо, не останется других вариантов, кроме движения в пользу моделей, которые сейчас в ряде стран мира начинают использоваться. Мы будем запаздывать с этим, мы будем это делать не вовремя, но это придется делать. И это придется делать в отношении как малого бизнеса, например, когда мы говорим не столько о модели кредитования, сколько о модели субсидирования или выплат просто на покрытие фонда заработной платы. Можно говорить о разных процентах – 50 или 80%, о 100 никто не говорит. О покрытии затрат, связанных с коммунальными платежами, покрытии затрат, связанных с арендой разного рода. Есть еще тема налоговая. И это придется делать. Есть второй сюжет – он связан, конечно, с массовыми выплатами. Здесь могут быть разные модели, и проблема не только в суммах и в возможностях, проблема еще в администрировании. Какая есть модель, когда это реализуемо в России, когда деньги все-таки дойдет до людей.
Максим Морозов: А в чем может быть проблема с администрированием?
Сергей Кадочников: Например, что значит, когда мы предлагаем всем выплаты денег. Значит, мы, во-первых, должны иметь счета людей всех, мы должны понимать, через какие каналы мы это делаем, мы должны это учитывать.
Максим Морозов: Сейчас практически у всех есть банковская карта.
Сергей Кадочников: Конечно, но у нас просто административный механизм – если мы, например, на постановление правительства, по которому принял решение президент, тратим не менее недели, они должны обрастать инструкциями – то это понятный масштаб. Я просто приведу пример кризиса 2008-2009 года, в котором было много специфических особенностей…
Максим Морозов: Банковский кризис, финансовый.
Сергей Кадочников: Не похож на нынешний, но, например, один из механизмов, которым удалось очень сильно демпфировать ситуацию с падением уровня жизни – это механизм существенного роста пенсий. Тогда пенсии за 1,5 года – потому что по ним было фактически принято решение с ноября 2008 года, кризис начался в сентябре, первые решения были приняты в ноябре, а выплаты фактически в январе только начались и в 2009 году – это 37% прироста уровня пенсий по стране. У нас 40 млн пенсионеров, а у нас занятых на рынке труда – 75, какая пропорция.
Максим Морозов: Тогда вовремя, получилось, подняли пенсионный возраст?
Сергей Кадочников: Еще на начала реализовываться, эта модель, чтобы она дала какой-то эффект сокращения получателей пенсий. Это, понятно, будет реализовываться, но это просто с точки зрения уровня поддержки в этом году ни на что не повлияет. То есть это один из механизмов, очень простых, который можно сейчас довольно быстро администрировать.
Максим Морозов: Вопрос, такой, серьезный, конечно – о поэтапном выходе из режима изоляции и бизнеса, и граждан. Сколько потребуется времени для нормализации, при каких условиях возможен отскок экономики и когда?
Сергей Кадочников: Сейчас доминирует точка зрения, что все-таки это тема двух кварталов, когда у нас будет очень низкий… до отскока, то есть такая, U-образная, что ли, кривая. Когда все-таки низ будет длительным достаточно, то есть от 3-4 до 6 месяцев. Но мы не знаем ничего, это просто спекуляция, мы на этот вопрос не знаем ответа, эта спекуляция базируется на представлении о том, что изоляция в большинстве экономик длится от 1,5 до 2 месяцев, падение, которое мы имеем по Франции, например, это 10% ВВП за этот период, по Германии 6, то есть в расчете годовом это 2-3%. Больше, чем проекция двух месяцев карантина, нет ни у кого. Это значит, что это плато будет длиться примерно в два раза больше – 4-5 месяцев, а потом начнется оживление. Вопрос сейчас, мне кажется, очень важный состоит в том, что сфера услуг теперь очень сильно будет меняться, здесь надо посмотреть на изменения, которые с этим связаны.
Максим Морозов: А вы что имеете в виду, рост дистанционных сервисов, онлайна?
Сергей Кадочников: Два сюжета главных. Первый сюжет в стандартных сервисах, которые мы не можем перевести на дистанционные, или в тех отраслях, где можно разделить на две части – например, тот же ресторанный бизнес. У нас очень сильно будут расти издержки. Мы, когда думаем о том, как возвращаться будут авиакомпании на рынок, большинство экспертов сходятся на том, что длительный период, год и больше, если не будет второй и третьей вспышки. Я напоминаю, как было 100 лет назад, в период испанки. Было три волны, и третья была больше, чем первая, и больше, чем вторая. Так вот, авиакомпаниям придется идти на то, что у них будет рассадка мест специфическая. Это означает, что загрузка салона будет теперь не 100%, а только 20-25. Значит, это будет теперь стандартная модель загрузки.
Максим Морозов: То есть бизнес становится малорентабельным?
Сергей Кадочников: Он становится очень дорогим. Чтобы окупить полеты, нам нужно будет либо субсидировать их, это радикальная история, либо мы должны нарастить цены. То есть речь идет о росте в 3-4 раза. Значит, у нас будет новая жизнь в этом секторе, ее не переведешь на дистант, если мы говорим об авиакомпаниях. Или, например, у нас будет все равно спрос на то, чтобы сидеть в ресторане, но в ресторане теперь будет не 100%-я загрузка, а тоже только 25. Значит, у нас будут расти цены в этом секторе в 3-4 раза. Это другая жизнь, которую мы пока не осознали. Значит, будет меняться очень сильно распределение трудовых ресурсов между этими секторами. Будет очевидное падение занятости в этих секторах.
Максим Морозов: И здесь, наверное, тоже такая ирония судьбы, что, возможно, сыграет на руку огосударствление российской экономики. В разных секторах доходит до 70%, и традиционно в России низкая доля малого и среднего бизнеса. Если в США, говорят, 30-40% ВВП составляют именно компании малого и среднего бизнеса, у нас это, конечно, намного меньше. И, может быть, мы объективно менее пострадаем, потому что у нас тех, кто пострадал – их объективно меньше, малого и среднего бизнеса легального.
Сергей Кадочников: Это история краткосрочная. Вот то, что вы говорите, это вы говорите про то, что в государственном секторе, в бюджетном секторе госслужащие и те, кто заняты в госкомпаниях, они не потеряют или потеряют не сильно. Там есть трудовое законодательство, там есть госбюджет, еще что-то. Вся эта история про то, что на этих людей хватит денег. А если не хватит? Ведь наша экономика и наш разросшийся государственный сектор завязаны исключительно на то, что мы экспортируем определенный товар, который сейчас потерял в цене. Значит, это все про то, насколько хватит Фонда национального благосостояния кормить вот эту избыточную государственную машину – настолько мы выиграем. А потом мы можем очень сильно проиграть, ведь история про адаптацию – это история про то, что низкое падение – зато быстрый отскок, когда есть возможность мобильности. А когда мы закрепили людей в одном секторе, который государственный, они будут какой-то период жить, пока не начнутся бунты, связанные с тем, что не будет нефтяных денег. А мы их не подготовили, они не получали от нас сигналов, что надо искать другую работу, что надо развивать другие сектора, им исправно платили деньги. Я говорю не про то, что им не платить, я говорю про то, что избыточный сектор – он дает нам фальшивые сигналы по приспособлению к новой жизни.
Максим Морозов: Сергей Михайлович, огромное спасибо за это интервью.
Сергей Кадочников: Спасибо.












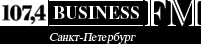




 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге
 Партнёр юридической компании «Апелляционный центр»
Партнёр юридической компании «Апелляционный центр»
 Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга
Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга
 Замруководителя УФНС России по Санкт-Петербургу
Замруководителя УФНС России по Санкт-Петербургу